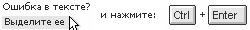Южноуральский язык

Кто из нас не ностальгировал по тем позднесоветским временам, когда программу «Время» вели профессиональные ораторы, говорившие по изысканным законам старомосковской нормы! Все эти «шыги» (то есть шаги) и «шыры» (шары), «дожьжи» (дожди) и прилагательные на «ий», произносимые как «широкъй», «далекъй»! По этим законам и сегодня обучают речи будущих театральных и киноактеров.
Конечно, норма чрезвычайно важна, она является своеобразным центром тяжести национального языка. Но в чем тогда причина существования говоров и диалектов? Почему, собственно, испокон веку сохраняются эти особенности? Ведь многосотлетняя традиция воспитывала насмешливое отношение к «неправильностям» речи (как к знаку «деревенщины», «некультурщины»). И сегодня на слух русские воспринимают украинскую мову как «деревенский русский» — вроде бы все понятно, но очень смешно. Вот Ющенко поправляет золотые очки, весь в бликах фотовспышек, он серьезно и вдумчиво отвечает на вопрос на пресс-конференции: «Це брехня». Это вовсе не «Кузькина мать» Хрущева, а вполне нейтральное «Это неправда». Но ведь смешно! Между тем в этом самом «веселом» отношении вполне просматривается неуничтожимость имперского отношения ко всему «нецентральному». Так же смеялись в Париже над гасконским говором Д'Артаньяна. Так же в «Карнавале» героиня не поступила в театральный институт из-за своего оханского выговора.
Но стоит задуматься: а почему так устойчив особый, привязанный прочно к какому-то куску пространства, говор? Почему так необыкновенно, ни на кого непохоже говорят в Юрюзани? Почему существует «уральская скороговорка» — по сравнению с Питером неимоверная скорость говорения? Почему сохраняется наше местное смешенье «с» и «ч»? И вообще пришепетывание на «с»? Мы ведь и не замечаем, потому что наше. Так же, как Волга не замечает оканья, а Смоленщина «гхыканья». А если и замечаем, то с ужасом — надо переучиваться! Надо приспосабливаться!
Моя мама рассказывала, как она истребила в своей речи это самое «гх». Восьмилетний сын ее одноклассницы, переехавшей в Питер, целый год молчал, стесняясь своего «гхыканья», тайно переучиваясь говорить. Но дело не в этих конкретных примерах, а во взгляде наоборот: вдруг это и есть замечательная уникальность? Дело ведь не только в выговоре, но и в самих наименованиях, в самих словах. Н. Малеча собрал четырехтомный словарь говоров уральских (яицких) казаков (работа заняла почти 60 лет). Он читается как словарь иностранных слов. Здесь «варка», например, — это голова. А вот В. Тимофеев, доцент ЧелГУ, составил в свое время «Словарь одного человека», своей матери, жительницы курганской деревни.
Люди хранят уникальные способы говорения, за которыми стоит неповторимая картина мира. И если некая территория обладает своими особенностями говорения, их надо не гнать из речи, а анализировать, изучать, вникать в их суть, в их «внутреннюю форму». Разумеется, должна существовать «общепринятая норма», утвержденная и предписанная. Но должен, наконец, появиться интерес к своему родному «малому» — и не только филологам это нужно.
Тонкие различия говоров помогают установить важные границы, сложившиеся в ходе истории, развития края. Но главное — разобраться в смыслах, уловить закономерности, почувствовать их значимость, начать культивировать и развивать их, хранить, передавать из поколения в поколение — осознанно, понимая, что это трансляция уникального местного духовного опыта, того, чего нет ни у кого другого, того, что делает тебя южноуральцем. Не временно осевшим в этих краях человеком, ждущим своего часа «отлета», но крепко привязанным к своим краям. И тогда, пожалуйста, — хоть work, хоть travel — у тебя всегда будет чувство родины, большее, чем только привязанность к людям (семье), чем абстрактный и холодно-скользкий «патриотизм». Может быть, обратившись к особенностям говорения, мы поймем, как прекрасна и поистине уникальна именно эта земля, та, где мы научились говорить не только по-русски, по-татарски, по-башкирски, но и по-южноуральски.