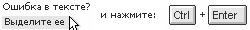Завещание доброты

Павел Георгиевич Новгородов написал мне письмо - «поделиться с вами о жизни, о своем личном». Шести страниц ему хватило, чтобы изложить всю свою жизнь. Перескажу ее еще короче.
Павел Георгиевич родился в 1926 году в селе Наследницком Брединского района, в семье казака Георгия Алексеевича, участника японской войны 1905 года. В сентябре 1930 года семья была раскулачена. «Дом, живность, собранный урожай, земельный надел - все было конфисковано». На северном Урале, где-то под Арамилем,Новгородовы добывали торф. «Работа тяжелая, в сырости. Нарезали брикеты, сушили». Жили в бараках. Бараки - в форме треугольников. «Никаких перегородок внутри». Потом была землянка - отдельное жилище.
Вскоре, однако, отца перевели в Чусовой, на заготовку леса. «За порядком следил комендант». И так здесь и где-то еще - до самой войны.
В апреле 1942 года Павел Георгиевич переехал в Челябинск, к старшей сестре, и поступил учеником токаря на завод «Электромашина». Началась другая жизнь. В инструментальном цехе тепло, светло, люди добрые и, главное, интересно. После вечернего техникума - приглашение в отдел главного технолога. В 1962 году был признан лучшим технологом и занесен на заводскую Доску почета. Но в том же году сам напросился в инструментальный цех - токарем, и там оставался до пенсии. Семнадцать лет работал с личным клеймом. Награды - орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета». Отличник качества во всем министерстве. Сам министр вручал Знак отличника. Четыре созыва - депутат районного Совета.
С детства много работал, любил работать и детей приучал к работе. И они «все при деле». У старшей дочери два высших образования, у младшей - ни одного, но - закройщица, признанная мастерица.
«Приносит удовлетворение то, что жизнь прошла на пользу обществу, что все годы был востребован».
Такая жизнь. Я и думаю: зачем Павел Георгиевич рассказал о ней? И сам себе отвечаю вопросом: а почему бы ему о ней не написать? Написали же о себе, например, журналисты Виталий Понуров и Владимир Тараканов. О себе написали, о своем времени, о людях, с которыми «пересеклись». Кого-то похвалили, кому-то попеняли, перед кем-то оправдались.
Их воспоминания опубликованы в альманахе «История людей», который собирает и издает писатель Рустам Валеев, а он, кстати, предпочитает именно такие, оригинальные, никем не правленные, без литературных изысков рассказы, первоначальную «отсебятину» - «о себе от себя».
Я не о том, кто «имеет право» на мемуары, а кому «не положено». Я думаю, все без исключения хотели бы оставить свои собственные свидетельства о себе и своем времени - и ученые, и полководцы, и политики, и токари. Но зачем?
Дать о себе знать. Пожить и оценить прожитое. Утвердиться, что жизнь прожита не зря, что «пошла на пользу обществу». Чем-то похвалиться, чем-то возгордиться. Кого-то поблагодарить, перед кем-то повиниться. Поставить себе «правильную», взвешенную оценку, с позитивом, но и с негативом: был праведен, но, мол, не без греха. Сослаться на условия, на трудности, на горести, на невезение, на препоны. Но зачем? Смысл какой?
Объясниться. Оцениться. Отчитаться. Перед детьми, перед внуками и правнуками. Чтобы «чуть-чуть» остаться с ними и после ухода, после переселения в мир иной, продлиться, но в истинном образе, а не в искаженном.
Есть у нас, у людей, одно, сугубо человеческое, слегка наивное, откровенно неразумное, странное свойство - мы хотим, чтобы после смерти нас помнили. И чтобы помнили не злым, а добрым словом. «Там» нам будет все равно, как нас будут помнить здесь. Ни о хвале, ни о хуле мы ничего никогда не узнаем. И все-таки в конце срока нас волнует, какие слова будут сказаны потом, за чертой, вслед.
Это наивное хотение знать, как нас будут помнить, - может быть, самое прекрасное, что отложилось в наших душах за тысячелетия перевоплощения звериного в человеческое. Может быть, одно только это вселяет надежду, что доброта на земле едва заметно, но прибывает.
Не знаю, кому больше нужны мемуары, тем, кто их читает, или тем, кто их пишет.